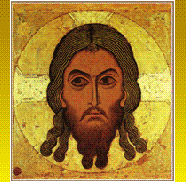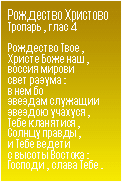Гостинец
Гостинец
Рассказ Леонида Андреева о том, как, увлекшись
собственными проблемами, можно забыть о ближнем своем. Забыть о человеке,
которому гораздо тяжелее и которому нужна, быть может, всего только капля
внимания и заботы.
– Так ты приходи! – в третий раз
попросил Сениста, и в третий раз Сазонка
торопливо ответил:
– Приду-приду, ты не бойся. Еще бы
не прийти, конечно, прийду.
И снова они замолчали. Сениста был мальчишка-подмастерье, а Сазонка
был солидным мастером и пьяницей и Сазонкой
звался только по привычке. Вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую
минуту в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому Сенисте. К жалости
призывала вся необычная обстановка: тесный ряд кроватей с бледными, хмурыми
людьми; воздух, до последней частицы испорченный запахом лекарств и испарениями
больного человеческого тела; чувство собственной силы и здоровья. И уже не
избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Сенисте и твердо повторил:
– Ты, Семен... Сеня, не бойся.
Приду. Как ослобонюсь, так и к тебе. Разве мы не
люди?
***
Подходила Пасха, и портновской
работы было так много, что только один раз, в воскресенье, Сазонке
удалось напиться, да и то не допьяна. Целые дни, по-весеннему светлые и
длинные, от петухов до петухов он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки
поджав под себя ноги, жмурясь и неодобрительно посвистывая. В голове Сазонки было смутно и тяжело, и по целым часам он неуклюже
ворочал какую-нибудь одну мысль: о новых сапогах или гармонике. Но чаще всего
он думал о Сенисте и о гостинце, который он ему
отнесет. Машинка монотонно и усыпляюще стучала,
покрикивал хозяин – и все одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки: как он приходит к Сенисте
и подает ему гостинец, завернутый в ситцевый каемчатый платок. Часто в тяжелой
дреме он забывал, кто такой Сениста, и не мог
вспомнить его лица; но каемчатый платок, который еще нужно купить,
представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на нем не совсем крепко
завязаны. И всем – хозяину, хозяйке, заказчикам и ребятам – Сазонка
говорил, что пойдет к мальчику непременно на первый день Пасхи.
– Уж так нужно, – твердил он. –
Причешусь и той же минутой к нему. На, милый, получай!
***
И на первый день Пасхи, и на второй Сазонка был пьян, дрался, был избит и ночевал в участке. И
только на четвертый день удалось ему выбраться к Сенисте.
Улица, залитая солнечным светом,
пестрела яркими пятнами кумачовых рубах и веселым оскалом белых зубов, грызущих
подсолнухи; играли вразброд гармоники, стучали чугунные плиты о костяшки и голосисто
орал петух, вызывая на бой соседского петуха.
Но Сазонка
не глядел по сторонам. Лицо его с подбитым глазом и рассеченной губой было
мрачно и сосредоточенно, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а как-то
растерянно торчали отдельными космами. Было совестно
за пьянство и неисполненное слово, было жаль, что представится он Сенисте не во всей красе – в красной шерстяной рубахе и
жилетке, а пропившимся, паскудным, воняющим
перегоревшей водкой. Но чем ближе подходил он к больнице, тем легче ему становилось,
и глаза чаще опускались вниз, направо, где бережно висел в руке узелок с
гостинцем. И лицо Сенисты виделось теперь совсем живо
и ясно, с запекшимися губами и просящим взглядом.
– Милый, да разве? Ах, Господи! –
говорил Сазонка и крупно надбавлял шагу.
Вот и больница – желтое, громадное
здание с черными рамами окон, отчего окна походили на темные угрюмые глаза. Вот
и длинный коридор, и запах лекарств, и неопределенное чувство жути и тоски. Вот
и палата, и постель Сенисты... Но где
же сам Сениста?
– Вам кого? – спросила вошедшая
следом сиделка.
– Мальчик тут один лежал. Семен.
Семен Ерофеев. Вот на этом месте. Сазонка указал
пальцем на пустую постель.
– Так нужно допрежде
спрашивать, а то ломится зря, – грубо сказала сиделка. – И не Семен Ерофеев, а
Семен Пустошкин.
– Ерофеев – это по отчеству.
Родителя звали Ерофеем, так вот он и выходит Ерофеич, – объяснил Сазонка, медленно и страшно бледнея.
– Помер ваш Ерофеич. А только мы
этого не знаем: по отчеству. По нашему – Семен Пустошкин. Помер, говорю.
... В мертвецкой Сазонка
отступил на шаг и громко сказал:
– Прощевай,
Семен Ерофеич.
Затем опустился на колени, коснулся
лбом сырого пола и поднялся.
– Прости меня, Семен Ерофеич, – так
же раздельно и громко выговорил он и снова упал на колени и долго прижимался
лбом, пока не стала затекать голова.
Перестала жужжать муха, и было тихо,
как бывает только там, где лежит мертвец. И через равные промежутки падали в
жестяной таз капельки, падали и плакали – тихо, нежно.
***
Тотчас за больницей город кончался,
и начиналось поле. Сазонка брел к реке.
На берегу
он улегся в небольшой, покрытой травой ложбинке, где воздух был неподвижен и
тепел, как в парине, и закрыл глаза. Солнечные лучи проходили
сквозь закрытые веки теплой и красной волной; высоко в воздушной синеве звенел
жаворонок, и было приятно дышать и не думать. В полудреме Сазонка
откинул руку – под нее попало что-то твердое, обернутое материей.
Гостинец.
Быстро приподнявшись, Сазонка вскрикнул:
– Господи! Да что же это?
Он совершенно забыл про узелок и
испуганными глазами смотрел на него: ему чудилось, что узелок сам своей волей
пришел сюда и лег рядом, и страшно было до него дотронуться. Сазонка глядел, глядел, глядел, не отрываясь, и бурная,
клокочущая жалость и неистовый гнев подымались в нем.
Он глядел на каемчатый платок и видел, как на первый день, и на второй, и на
третий Сениста ждал его и оборачивался к двери, а он
не приходил. Умер одинокий, забытый, как щенок, выброшенный в помойку. Только
бы на день раньше – и потухающими глазами он увидел бы гостинец и возрадовался
бы детским своим сердцем, и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела
бы его душа к высокому небу.
Сазонка плакал, впиваясь руками в свои
пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, подымая
руки к небу, жалко оправдывался:
– Господи! Да разве мы не люди? И
рассеченной губой он упал прямо на землю и затих в порыве немого горя. Лицо его
мягко и нежно щекотала молодая трава; густой, успокаивающий запах подымался от сырой земли, и была в ней могучая сила и
страстный призыв к жизни. Как вековечная мать, земля принимала в свои объятия
грешного сына и теплом, любовью и надеждой поила его страдающее сердце. А
далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колокола.
1901 г.
Б№16(635)2012
ФОТО – В.А Серов. Портрет
писателя Леонида Андреева. 1907.
Л.Н.
Андреев (1871-1919) — писатель, публицист. Статьи Л. Андреева, опубликованные в
газете «Русская воля» (1916-1919) и перепечатанные в сборнике «Верните Россию!»
(М., 1994), по силе проникновения в суть происходящих в России событий и
эмоциональному воздействию могут быть сравнимы с «Окаянными днями» И. Бунина.
http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/andreev_ln.php